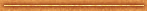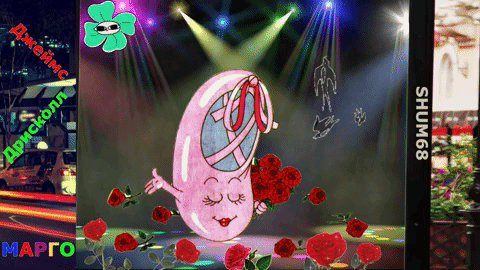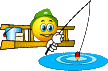Кибернетические стихи
В самом веселом краю
Живут самые веселые люди.
В самом веселом кра (банг!!!)
Живут са (тр-р-рах!) весе
(тлиньш-ш-ш).
(Это сломалась машина,
которая пишет эти стихи.)
Всасасасасаса
ве
ве
ве
ве
ве
ве
ве
Кра кра кра
кра кра
кра кра кра
у-у-у-у-у-у-у-у!
(Это мчится машина,
В которой сидит механик.
Он едет чинить машину,
Которая пишет эти
Стихи.)
Таракан
Залез в бутылку
Таракан.
А вылезти
Не смог.
От злости
Бедный таракан
В бутылке
Занемог.
Он сдох
В начале января,
Прижав усы
К затылку.
Кто часто сердится,
Тот зря
Не должен
Лезть в бутылку.
Апчхи!
Вот веселые стихи -
Апчхи!
Бесконечные стихи -
Апчхи!
Все чихальщики
На свете
Без конца читают эти,
Ах, апчхи -
Чихают эти,
Нет, не так -
Читают эти
Очень звонкие стихи -
Апчхи!
***************************************************************

БОРИС МИХАЙЛОВ

«Любовь к родине начинается с любви к её природе». Каждый раз, когда я сижу на пенёчке в лесу или поле и пишу красками этюды нашей неяркой, но удивительно мягкой и лиричной северной природы, я вспоминаю эту фразу. И каким бы удачным ни получился мой этюд, каждый раз я вижу, я чувствую, что не полностью выразил моё восторженное отношение к родной природе.
И тогда я достаю из кармана маленькую книжицу и торопливо записываю переполняющие меня впечатления и чувства...
Автор (Борис Михайлов)

САМЫЙ крохотный ЗВЕРЬ

ПОД ЗЕЛЁНЫМ ЗОНТОМ
Хорошо сидеть под старой густой ёлкой во время дождя. Здесь тепло и уютно. А всего лишь в двух-трёх шагах с развесистых лап ели, как с зонтика, льются и льются струи воды. Там, за волшебной чертой, отделяющей сейчас меня от всего мира, мокро и холодно. Трепетная осинка, что стоит рядом, зябко дрожит каждым своим листиком и льёт обильные слёзы. Она промокла насквозь. Молоденькой берёзке тоже очень холодно и неуютно. Под порывами злого ветра она вся клонится, тянется каждой своей тонкой веточкой к старой ёлке, к теплу и уюту.
|
|
А я удобно, как в кресле, расположился между двух могучих корней на мягком подстиле из сухой хвои, вытянул натруженные долгой ходьбой ноги, прижался спиной к толстому сухому стволу. Как хорошо пахнет свежей смолой! Как легко дышится; какие светлые и чистые мысли неспешно рождаются под монотонный, успокаивающий шум дождя! А перед глазами сплошная водная пелена. По ту сторону пелены сейчас находится весь белый свет, по эту сторону — я. Хорошо или плохо быть одному? Иногда, вот как сейчас, конечно, хорошо, — но если всегда?..
Однако я не успел проследить до конца эти свои неторопливые и нехитрые мысли. Оказывается, я вовсе не одинок. Здесь, под ёлкой, даже сейчас, когда во всём мире неуютно и зябко, продолжается деловая размеренная жизнь.
Моя правая рука лежит на толстом корне ели. Для меня корень ели сейчас будто ручка удобного кресла. Я и не заметил поначалу, что здесь проходит большая муравьиная дорога. Моя рука перегородила эту дорогу, и муравьи, как лавина автомашин перед шлагбаумом, остановили свой деловой бег. Но ненадолго.
|
Они забегали, засуетились около «шлагбаума», посовещались, должно быть, о чём-то, и вот несколько муравьёв уже обследуют мою руку: «Годится или нет на что-нибудь эта коряга с пятью отростками?»
|
|
Разведчики вернулись к своим, что-то сообщили, наверное, и поток муравьёв хлынул через «шлагбаум». Жизнь продолжается...
По моим ногам бегают какие-то крошечные букашки, ползают зелёные гусеницы, перед глазами мельтешат столбиками мошки. Где-то около уха звенит комар. Позвенел, позвенел и смолк — сел на мой лоб. Укусит или нет? Укусил, да ещё как! Но я вытерпел, не пошевелился.
И моё терпение было тут же вознаграждено.
Самым краешком глаза я заметил какое-то движение за кучкой сухих еловых сучков. Это уже не букашка. Это какой-то зверёк. «Кто бы это?» — думаю я, а голову повернуть, чтобы рассмотреть получше, не смею. Знаю, что всякое моё движение испугает гостя. А зверёк повозился, повозился в уголочке моего глаза и скрылся из поля зрения. Хорошо бы иметь все-видящие глаза, ну, например, такие, как у рака, на стебелёчках, подвижные — куда захотел, туда и передвинул глаз, хоть на затылок!
Скосил я до предела свои обыкновенные, такие неудобные глаза, даже больно стало, а зверя не вижу.
Не вижу, но слышу. Пошуршал он чем-то сбоку от меня, потом прошуршал за моей спиной, обшуршал вокруг ёлки и вот появился в уголочке моего второго глаза. Появился и замер, насторожился. Почему? А! Вот, наверное, почему: слева от меня появился другой зверёк, шустрый, совсем маленький. Этого я сразу разглядел и узнал — мышка-полёвка.
|
|
|
Она остановилась около совершенно незнакомого ей огромного предмета величиной с гору — таким, наверное, должен ей казаться мой сапог, — смешно подёргала подвижным носиком, обнюхала одну гору и юркнула ко второй. Но тут наперерез ей рванулся тот, первый, зверь. И быть бы беде, но моя правая нога распрямилась, и между зверьками выросла непреодолимая преграда. Полёвка сразу будто в землю провалилась: была и нету её. А тот, первый, таинственный зверь остановился как вкопанный и замер. Ну, а теперь-то видно — ёжик это... Тронул я его — не шевелится, на спинку перекатил — лежит как мёртвый.
Я тоже перестал шевелиться, тоже неживым притворился.
Долго мы с ёжиком так молчали, один другого пытались обмануть, — кто терпеливее и хитрее? Сижу я и думаю: как удачно получилось, что сел я под эту ёлку. Ведь целый день пробродил по лесу, искал что-нибудь интересное и ничего не нашёл. А вот сел, притих, и интересное ко мне само пошло и пошло.
|
|
|
Вспомнил я про своё состязание в терпении с ёжиком. Посмотрел — а того и след простыл. Хитрее меня ёж оказался. Умница!
За этими мыслями я и не заметил, как дождь совсем стих, тучи прошли, выглянуло солнце. Теперь можно бы и оставить мою удачливую ухоронку и идти домой.
Но я долго ещё сидел в своём мягком кресле и смотрел и слушал.
|
Я был рад солнцу, рад тому, что под его тёплыми лучами берёзки и осинки быстро обсохли и стали весело о чём-то переговариваться между собою.
|
|
Я рад был тому, что стена дождя больше не отделяет меня от остального мира и что вопрос — хорошо или плохо быть совсем-совсем одному — решился сам собой...
Хорошо, если человек не одинок, даже когда он сидит во время ливня под самой лучшей ёлкой на всём белом свете!
|
  
УМНЫЙ ЗАЯЦ
Попал заяц в лихую беду: настигла его посреди поля стая голодных ворон.
|
|
Почти целую неделю перед этим сыпал снег. Глубоким, рыхлым покрывалом засыпал широкое поле. По самые уши проваливается заяц, мечется то вперёд, то назад, то влево, то вправо. Но всюду настигают его крепкие вороньи клювы. Шерсть клочьями летит. Заверещал заяц от великой боли и смертельного страха.
Ох, глупый! Неужели не видит он своими косыми глазами, где спасение? Вон там, справа, молодые елушки стоят — спрятался бы под них!
Увидел-таки заяц ёлки, подкатил к самой густой, нырнул под неё и затаился.
«Молодец заяц, вот и спасение!» — радуюсь я.
— Кар-р-раул! — подняли страшный переполох вороны. — Укр-р-ыл-ся
Нет, не удалось укрыться зайцу. Нашлась в стае одна дотошная ворона, залезла бочком под ёлку и, видать, крепко долбанула там зайца. Свечкой выскочил бедняга, и опять закрутилась над полем серая галдящая воронья свара.
|
|
|
— Вр-р-рёшь — не уйдёшь!
Вороны одна за одной валятся сверху и клюют, клюют, клюют. Прямо смерть приходит!
Опрокинулся заяц на спину — из снега только лапы торчат.
— Ок-ка-чурился! — торжествующе заорали вороны и всем скопом кинулись на зайца.
Ан не тут-то было! Быстро-быстро замелькали в воздухе сильные заячьи задние ноги. Гляжу: одна, две, три вороны грязными серыми тряпками отброшены в сторону — видать, крепко попало!
|
Да только очень уж много ворон! Как ни отбивается косой — одолевают его вороны.
Вскочил тогда заяц и кинулся со всех ног куда глаза глядят.
На дорогу надо, на дорогу! Там бежать легче, в снег не проваливаешься! А оттуда до леса ногой подать! Ох, глупый! Неужели не догадается?
А заяц догадался: выскочил на дорогу, огляделся по сторонам да как даст стрекача — будто птица летит, вороны едва поспевают за ним.
И куда только глядят косые заячьи глаза? Не от леса, а к лесу бежать-то надо! Ведь тут на дороге стою я. Ведь у меня ружьё, ведь я охотник!
Но заяц лучше меня рассудил, где его спасение. Пулей подлетел ко мне, в ноги ткнулся и замер.
Взял я его на руки. Дрожит косой мелкой дрожью. Один глаз подбит, а другой прямо на меня смотрит. Умно, доверчиво так смотрит.
Кинулись было ко мне вороны: |

|
|
|
— Вор-р! Вор-р! Вор-р!
Но со мной шутки плохи. Лишь дотронулся я рукой до ружья — сразу караул закричали вороны.
Только мы с зайцем их и видели.
|
  
ЛЕСНЫЕ ЗАГАДКИ
Однажды вечером сидел я на крылечке, слушал, как постепенно утихает неторопливая деревенская жизнь, смотрел, как из-за недалёкого лесочка медленно выкатывается огненно-красный диск луны, и тихо думал о чём-то своём.
Встревоженные ребячьи голоса возникли где-то за околицей. Миновав деревню, ватага подкатилась к моему крыльцу. Шум, гам, тарарам — ничего не понять! Не скоро распутал я этот бурлящий клубок голосов — и наконец узнал вот что.
Начало смеркаться, когда ребятишки возвращались после набега в грибные места, что за старыми хуторами. И вот у дяди Лёшиной пасеки дорогу ребятам перебежал какой-то невиданный и, наверное, поэтому очень страшный зверь.
— Сам с кошку, поди, будет, — сказала шестилетняя Маня, — а хвост раза в три больше кошачьего.
— Ш-шабаку! — категорически поправил её четырёхлетний Саня, — а хвошт в-о-от такой! — И он развел руки шире широкого.
Стал я думать, вспоминать, прикидывать, у какого из наших зверей такие приметы имеются. И ничего подходящего вспомнить не смог. Нет в наших краях такого зверя! Напутали что-то ребятишки.
А тут идёт вдоль деревни колхозный пастух и ещё издали кричит:
— Эй, охотник, ну и зверюгу я сейчас на хуторах встретил, — с нашего быка, поди, будет, а хвост длиннее моего кнута!
А кнут у нашего пастуха длиной в полдеревни — это все знают. Подошёл пастух поближе, оглядел ребятишек пугающими глазами, чуть-чуть улыбнулся в усы и сказал:
|
|
— Догнал я того зверя, на хвост ему наступил, зверь-то и убёг, а хвост мне оставил. Смотрю: под ногой у меня здоровущая гадюка, мёртвая и без головы. Погнался я снова за зверем, а это, оказывается, ёж. Да такой большой — век такого не видывал. С быка не с быка, а...
— С ежа будет! — подхватили, смеясь, ребятишки, и звонкие их голоса покатились по деревне дальше.
В другой раз ребятишки пришли ко мне с новой диковинкой: почти из-под ног, говорят, поднялась птица какая-то невиданная.
|
— Пузатая и — вот страсть-то! — с двумя головами!
— Одна голова большущим чёрным оком глядит влево, а вторая — вправо.
— А летит, что тряпка по ветру. Маленько пролетела, да под куст и схоронилась. Ещё бы поглядеть, подойти, да мы не посмели, страшно!
Странная, конечно, птица. Сами подумайте: с двумя головами. Может быть, какой-нибудь живой музейный экспонат, уродец, вроде тельца о двух головах?
|
|
— А клювы у той птицы длинные? — спросил я.
— Длиннющие!
— Во-о-от такие!
Ну тут уже догадаться нетрудно. Вальдшнеп это — крупный лесной кулик. Почему с двумя головами? Да потому что вальдшнепов было два: вальдшнепиха-мать переносила зажатого между лапок уже большого, но ещё нелётного птенца. Это у них, у вальдшнепов, часто бывает.
|
А в Малой Руне с тех пор и повелось: как увидят кого из ребятишек постарше на руках у матери, так и загалдят, задразнятся:
— Вальшень! Вальшень! Увалень-вальшень!..
А эту загадку лес мне самому загадал.
|
|
Недалеко от лесочка стоял стог сена, стабырь по-здешнему. А на шесте, что торчит вверху, сидит большущая серая птица. Голова у птицы, как у кошки: глаза жёлтые с чёрными зрачками и уши на голове.
Ну, узнал я, конечно: филин это.
Стал я филина кругом обходить, чтобы получше разглядеть. И чем больше хожу, тем больше удивляюсь. Вертит филин свою кошачью голову вслед за мною и неотрывно смотрит на меня своими немигающими глазищами.
Я обошёл вокруг стабыря по часовой стрелке раз пять, и филин перекрутил за мной свою голову тоже пять раз и всё в одну сторону.
Подумать только: в пять узлов перекручена шея филина! Всякий другой задохнулся бы уж давно, а ему хоть бы что.
Обошёл я стабырь ещё десять раз. Филин закрутил на своей шее ещё девять узлов, стал десятый завязывать, да, видно, раздумал и улетел в лес.
Потом в городе я рассказал обо всём этом одному своему знакомому учёному-физиологу. А он ответил, что филин мог бы повернуть за мною голову ещё хоть сто раз. — Почему?
— Потому что любит он смотреть на недогадливых людей, прямо оторваться не может. — Учёный посмотрел на меня поверх очков, ухмыльнулся и спросил: — А слышал, как филин хохочет?
— Слышал.
— Это он над тобой смеётся. И будет хохотать, пока ты не отгадаешь эту его загадку.
Вот уж много лет с тех пор прошло.
Бывало, совсем забуду я про тот случай, а как приду в лес да на ночь останусь, обязательно услышу, как филин хохочет, ухает на весь лес:
— Ух-ух-ух ты! Отгадал загадку? Ух-хо-ха!
|
  
Бия
Уже в полугодовалом возрасте у чистокровной, с безупречной родословной, восточно-сибирской лайки Бии появился совершенно непростительный порок: она стала гонять и давить куриц. Стоило только хозяину спустить Бию с цепи - в деревне поднимался страшный переполох. Курицы лётом летят, криком кричат. И, глядишь, какая-нибудь нерасторопная хохлатка уже бьётся в зубах Бии, только пух и перья по ветру летят. Затреплет Бия курицу, снесёт в ближний лесок, схоронит: либо под корневища какие-нибудь засунет, либо ямку неглубокую лапами выроет, положит туда курицу, чуть землёй прикроет и бежит в деревню за другой. Бывало, за день до четырёх кур давила.
А потом хозяин Бии, охотник Фёдор, ходил по деревне с виноватым видом, будто это он сам кур воровал, выслушивал недобрые упрёки пострадавших односельчан и безропотно возмещал им убытки.
— Вконец разорила, проклятая! - всё чаще и чаще сердилась жена охотника, прежде всеми уважаемая бригадирша полеводческой бригады тётка Ленка. Л теперь из-за Бийкиных проделок косо стали глядеть соседи на свою бригадиршу. За глаза такое стали говорить, что она даже плакала от незаслуженных обид. Болтали злые бабьи языки, будто хозяева специально приучили собаку кур таскать.
— Жизни никакой нету! — жаловалась тётка Ленка мужу. — Уважать в бригаде перестали. В глаза людям смотреть стыдно. Как хошь, Фёдор, надо что-то делать с ней.
—Фёдор расстраивался так, что никакая работа к рукам не шла. Он брал ружьё и собаку и уходил от упрёков и недобрых глаз соседей в лес.
А в лесу Бия работала так, как и положено работать чисто-породной лайке, — азартно, напористо, весело. Не успевал Фёдор спустить Бию с поводка, как через короткое время где-то в лесу уже звенел заливистый лай.
— Векшу нашла...
—Застрелит Фёдор одну белку, а Бия тут же вторую прихватит, а там ещё и ещё... По десятку белок сдавал в контору Фёдор за один выход. И куницы попадались.
— Золотая собака, ей цены нету.
|
|
—Приласкает Фёдор Бию, обнимет, поцелует во влажный чёрный нос, посмотрит в весёлые, умные глаза и скажет:
— Биюшка, хорошая моя, родная, брось ты это дело... Ну зачем тебе эти курицы? Зачем? Брось, вот с сегодняшнего дня, как вернёмся домой, так и брось...
Бия слушает внимательно, смотрит в глаза хозяина невинным взором, весело крутит в знак согласия крутой пушистой баранкой. Выслушает — и снова в лес, и снова уже кого-то облаивает. Зовёт-зовёт Фёдор собаку домой да так и оставит в лесу — никак не зазвать. Набегается, дескать, сама вернётся, не до куриц будет.
Довольный подходит Фёдор к деревне.
А в деревне — куриный переполох, шум, крики, вопли. Что такое? А это, оказывается, Бия вернулась в деревню раньше хозяина и... опять всё сначала: и жена плачет, и соседи глядят врагами...
— Учить, парень, собаку надо, — советовал Фёдору один бывалый дед. — Вот этой самой курицей, ею убиенной, и мордуй, и мордуй её, шкодливую! Устанешь — отдохни, а потом опять, и всё по мордам её, бессовестную, всё по мордам... Этак всех шкодливых собак учат.
Всех, может, и учат, а Бию сколько ни наказывали — и затрёпанной курицей, и вожжами, — ничего не помогало! Дня два после сидит в конуре смирная, а только с цепи — опять за своё.
И до того доняли Фёдора и жена, и бабы, и мужики, что решил он с тоской и горечью:
— Застрелю!
Но помог случай.
По соседству с Фёдором жила известная на всю округу хлёстким своим языком сварливая бабка Настёна. Бабка держала два десятка чистокровных леггорнок. Белые, чистые, ухоженные были куры. Холила их бабка и получала оттого немалый доход: каждую неделю возила в район на базар по сотне яиц.
|
И как-то так получилось, что Бия за полгода своих шкод не тронула ни одной бабкиной курицы. Люди злословили:
— Бабки Настёны и собака боится. Понимает, поди: с бабкиным языком связываться не стоит, заблещет языком до смерти.
Как-то Бия сидела на привязи после очередной шкоды и порки. Забилась в конуру, носа на волю не кажет.
А на воле благодать — чистое, солнечное, прозрачное бабье лето! Хоть и осеннее, низкое, но ярко и горячо печёт солнце. Летят откуда-то через деревню по невидимым лёгким воздушным потокам невесомые тонкие паутинки. Трепещут пёстрыми крылышками бабочки-крапивницы; в стремительном полёте кружатся в вышине ласточки и бесчисленными вереницами унизывают телеграфные провода... Горячая, дремотная, пресыщенная стоит над деревней тишина.
|
|
И будто взрыв — у Настёны на придворке надсадным хором полохнули двадцать истошных куриных голосов и двадцать леггорнок белыми осколками сыпанули с усадьбы к курятнику. А двадцать первым был у бабки красавец петух...
Для Бии куриный переполох — что звук трубы для боевого коня! Забыв обо всём на свете, она вылетела из конуры, оборвав цепку, чёрно-белым бесом перекатила дорогу, единым духом перемахнула через невысокую изгородь на бабкину усадьбу и острым намётанным глазом сразу увидела в буреломе под засохшей яблоней живой комок белых и серо-бурых перьев.
А за мгновенье перед этим, никем не примеченный, серой беззвучной тенью скользнул откуда-то из-за старых лип большущий ястреб и с лёта вонзил свои крючковатые когти в спину петуха. Петух, видать, понял, что к нему прилетела смерть, закричал хрипло и тонко и рванулся в бурьян. Ястреб, крепко держа петуха одной лапой, второй ухватился за ствол молодой тонкой яблоньки. Петух дёргался изо всех сил и хрипло, совсем не по-петушиному кричал, а ястреб медленно, но упорно подтягивал его к себе и норовил долбануть острым загнутым клювом петуха в темя.
Бия ни на миг не усомнилась — курица! — и безошибочным броском накрыла и хамкнула свою жертву. И тотчас же опалённая нестерпимой болью и ужасом перед неожиданным, невероятным поведением курицы отчаянно завизжала! Ястреб отпустил хрипящего петуха и остервенело вцепился одной когтистой лапой в морду, другой в густую свалявшуюся холку собаки.
|
На шум бабка Настёна выскочила из избы красная, злая и, ещё ничего не понимая, зашипела так, будто кто раскалённые угли на мокрое крыльцо высыпал.
Фёдор, тоже выскочив на улицу, увидел и всполошившихся бабкиных куриц, и готовую взорваться тысячами чертей Настёну.
— О-ох! Убью! — схватился Фёдор за голову, будто его смертельно ранили, и кинулся обратно в дом за ружьём.
Захлопали окна, заскрипели на разные голоса двери по всей деревне, высунулись люди: кого убили, где зарезали?
Никогда прежде, даже в самом неистовом азарте, не показывала Бия такой прыти. Фёдор ещё не успел вставить в стволы трясущимися руками патроны с крупной дробью, как ошалевшая Бия молнией пролетела через всю деревгю, со всего маху влепилась в стенку скотного двора, упала и, совсем потеряв голову, кинулась обратно к дому, к своей конуре, — от смерти, которая была на спине, к смерти, которую заложил Фёдор в стволы своего не знающего промахов ружья.
|
|
Но промахнулся Фёдор. То ли рука дрогнула, то ли в последний миг заметил он неладное и дёрнул ружьё в сторону. Ястреб перед самой конурой высвободил наконец когти и тяжело взмахнул крыльями...
Второй выстрел Фёдора был точен: невидимая сила смяла и резко отбросила ястреба на стену хлева, как раз над самой Бийкиной конурой.
— Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь, — сказала Настёна и, положив в подол десяток свежих яичек, снесла их на развод бригадирше за чудесное избавление своего петуха от злой гибели.
Яички эти тётка Ленка положила под злую-презлую клуху, похожую и видом, и нравом на ястреба. И через положенное время на свет появилось десять новых жизней. Десять махоньких жёлтых пушистых цыплят полновластными хозяевами бегали по придворку. Они безбоязненно подкатывались к Бииной конуре, залезали в её миску и крохотными клювиками с дробным весёлым перестуком склёвывали студенистые комочки простокваши.
Бия забивалась в дальний угол конуры, прятала голову в лапы и, щурясь исподлобья на цыплят, хмурила брови, будто о чём-то горько и тяжело думала.
|
— А? Что я говорил, а? — радостно потирая заскорузлые и корявые от вечной работы на земле руки, скрипел тот бывалый дед, что советовал Фёдору учить Бию курицей. — Что я говорил? Видишь, парень, и на твою шкодливую собаку нашлась наука.
— Не то ты говоришь, дед. Подросла моя Бия, поумнела. Поняла, что обижать домашнюю живность, и особенно этих вот несмышлёных, симпатичных малышей, — ох, нехорошее это дело! Да ещё на собственном придворке, который она же обязана от всяческих бед охранять.
Подросла и поняла, что к чему, умница моя. Я же всегда знал, что цены ей нету...
— И то верно! — охотно согласился бывалый дед. — Жизнь — она каждого в своё время всему научит.
В ответ Фёдор с улыбкой кивнул головой.
|